Сергей Мохов: «Мы хотим сделать старость незаметной»
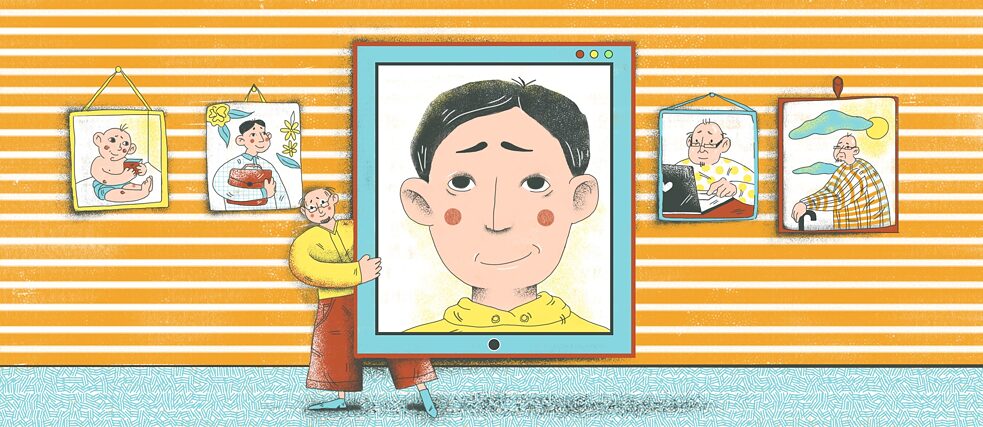
Известный советский слоган «главное, ребята, сердцем не стареть» в XXI веке звучит совершенно неубедительно: те, кто могут себе это позволить, вкладывают немалые ресурсы в то, чтобы «не стареть» не только сердцем, но и печенью, почками и, конечно же, лицом. Подобно основателю ВКонтакте и Телеграмма Павлу Дурову, недавно рассказавшему прессе о своих «секретах молодости», тысячи людей во всем мире ищут способа жить как можно дольше, становиться старше – но ни в коем случае не меняться, вести и чувствовать себя как в молодости. А лучше всего – вообще не умирать, жить вечно, хотя бы в форме цифрового аватара.
Что стоит за этим стремлением к вечной молодости – и за верой в возможность собственного бессмертия? Можно ли к смерти как-то подготовиться? Как говорить о ней – и с кем? Как найти в смерти смысл? Об этом Полина Аронсон поговорила с антропологом, автором книг «Рождение и смерть похоронной индустрии: от средневековых погостов до цифрового бессмертия» и «История смерти. Как мы боролись и принимали» Сергеем Моховым.
Полина Аронсон
В развитых странах продолжительность жизни сегодня достигла рекордных показателей. При этом, мы изо всех сил стремимся противостоять возрастным изменениям, которые случаются с телом или с психикой. Почему живя так долго, мы до одновременно так боимся старости?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, стоит задуматься о том, что именно мы пытаемся сохранить, когда «боремся со старостью». Я думаю, все дело в том, что старость нам представляется постепенной потерей себя, потерей своей субъектности. Смерть – это уже финал всему, конец субъекта. Поэтому все, что мы делаем, направлено на то, чтобы как можно дольше максимально сохранять себя, сохранять не столько молодость, сколько некое особое состояние, когда ты можешь без риска для себя пренебрегать многими обстоятельствами. Можешь, например, всю ночь напролет пьянствовать, заниматься сексом, а утром пойти на работу не переживая. Конечно, это здорово, привлекательно, мы все это ценим и всячески поощряем.
Мы хотим сделать старость незаметной. Вот Сергей Семенович (Собянин, мэр Москвы – прим.ред) продвигает активное долголетие: старики пляшут, хороводы водят, их люди из ЖЭКа развлекают. На деле все сводится к попытке адаптировать социальную инфраструктуру, материальную инфраструктуру к тому, чтобы у тебя не возникало ощущения своей неполноценности. Борьба со старостью это создание иллюзии, что ты – все еще либеральный субъект, что ты – полноценный член общества потребления, стремящийся во всем самостоятельно управлять своей жизнью.
Чтобы было понятно о какой иллюзии идет речь я предлагаю начать с самых крайних вариантов. Взять хоспис – это модель продолжающейся жизни, и одновременно модель продолжающегося выбора. Дома престарелых – это тоже институты, где вся повседневность сконструирована таким образом, чтобы сохранялась иллюзия продолжающейся жизни, в которой просто нет работы, нет производительного труда – они заменены приятным досугом, времяпровождением. Но в целом у тебя всегда есть возможность не просто выбирать блюда на обед и ужин – это самый минимум – но и путем постоянного выбора создавать всю инфраструктуру, адаптированную под тебя. Все делается для того, чтобы человек как можно меньше ощущал естественное снижение своей физической и ментальной функциональности.
Но ведь так было не всегда?
Традиционно старости приписывается некое особое прекрасное состояние, когда человек, наполняется мудростью. То есть, вступая в старость, физически вы теряете, зато социально вы обретаете. Даже современные западные общества во многом продолжают быть устроенными по этой схеме. Президентская гонка в Америке – это же совершенно удивительный пример, хороший показатель: два мужика уже за 70 конкурируют за это кресло, и мы даже не обсуждаем, что они вообще-то они уже достаточно пожилые люди и что, наверное, надо дать дорогу молодым. Нет, это укладывается в представление о вполне легитимной конкурентной борьбе.
Поэтому я бы сказал, что мы не столько пытаемся избегать старости как таковой, сколько хотим продлить замечательное поощряемое обществом состояние благоденствия, с life and work balance и прочими ништяками. Поэтому, наверное, если 70-летний мужик или женщина испытывает потребность в том, чтобы работать, быть президентом и прочее, мы будем это поощрять. Хочешь в старости работать – работай, хочешь не работать – не работай. Все отлично все хорошо. Борьба с тем, что мы условно называем «старостью» – это очередной гимн индивидуализму, гимн либеральному субъекту.
Россия в этом смысле уже полностью усвоила западные образцы?
В России, когда ты разговариваешь с людьми, которые переживают старость, на первый план выходит ощущение социальной изоляции. Лидия Боброва сняла про это в 2003 году фильм «Бабуся». Он, если можно так говорить, о постсоветской старости. Там бабуся – главная героиня этого фильма – постепенно становится ненужной всей своей семье, сначала умирает дочка, потом многочисленные внуки не знают, что с ней делать, и она уже сидит с правнуком, который оказывается единственным, кому эта бабуся нужна. В конце фильма она аллегорически умирает: она уходит просто в зиму и пропадает. Но все понимают, что она умирает. Это хорошее отображение социальной и физической смерти – и одновременно очень типичная история для России, когда есть сильная ориентация на семью, на семейные связи. И если в твоей жизни эта модель не реализовалась, то выходя в 60 лет на пенсию, ты не знаешь вообще, чем теперь заниматься. Собственно ни средств, ни какой-то инфраструктуры ты для этого не имеешь.
А с другой стороны, социолог Дмитрий Рогозин, много занимавшийся исследованиями старости, обратил внимание на то, что для многих региональных российских семей, наоборот, бабушка или дедушка – это источник денег. Потому что, имея инвалидность, имея пенсию и так далее они становятся центром такой низкодоходной семьи, и бабушкина пенсия это действительно большое подспорье. Здесь старый человек в центре внимания не потому, что он носитель мудрости. А потому, что он источник дохода.
В России борьба с комплексом болезней, постепенное угасание, умирание – это, скорее, нетипичная история. У большинства людей болезни развиваются очень скоротечно, и они умирают. То есть старость, растянутая во времен – это в России не совсем распространенный феномен. Кроме того, в России и в старости, и в болезни, смерть все равно не становится событием, которое люди как-то артикулируют, проговаривают. На западе есть очень четкий протокол взаимодействия с пациентом: раскрытие диагноза, обсуждение планов, связанных, в первую очередь, с такой очень важной вещью как наследство, со всеми счетами, которые нужно оплачивать. Примерно с 1970-х годов там сформирована культура разговора о возможной смерти в контексте заболевания. Старость здесь превращается в один из этапов, который ты, якобы, можешь спланировать и быть максимально эффективным, максимально себя обезопасить, сделать времяпровождение классным и так далее.
В России ничего такого нет. То есть в хосписе ты разговариваешь с людьми, которые не отдают себе отчет в том, что они умирают; для них этот процесс не требует вообще какого-то обсуждения. Даже если они отдают себе в этом отчет – об этом можно судить по каким-то косвенным признакам – это все равно очень личное, глубоко интимное переживание, которое нет необходимости обсуждать с семьей, в том числе. Я не могу сказать, что опять же на западе это легкая тема, и все там садятся за стол переговоров. Нет, это везде тяжело и везде, понятное дело, говорить о собственной смерти и говорить о смерти близких – хреново. Но если говорить об особенностях России в этом отношении – то это отсутствие какого-то юридического протокола умирания, отсутствия в России, юридической формы. Хосписы часто обращаются за помощью к волонтерам, и один из самых популярных запросов – это запрос на юридическую помощь: мы хотим завещание, мы хотим понять, как лучше что оформить, как что лучше сделать, и тд. Но все равно это вопрос очень конфликтный, со множеством значений, который все предпочитают в какой-то степени не обсуждать. Есть такая очень расхожая популярная тема – «я помру, а вы сами там разбирайтесь». Моя бабушка, кстати, которая так всегда и говорила, не хотела ничего делать с большим земельным участком, на котором она жила. Она померла, и это привело к тому, что уже пять лет ее нету, а с земельным участком до сих пор никто ничего сделать не может, потому что огромное количество наследников не могут между собой договориться. Все периодически вспоминают бабушку не совсем добрым словом. Потому что оставила она в этом плане неразрешенную проблему после себя.
Несколько лет назад я участвовала в исследовании клиники Шарите об отношении к старости и смерти в двух поколениях – людей среднего возраста и людей за 65. Один из главных результатов был довольно неожиданным: более молодое поколение не было готово говорить о смерти своих родителей, для них это была табуированная тема. А люди старшего возраста, наоборот, испытывали потребность поговорить о сценариях своего ухода – но им было не с кем. То есть человек в 70 лет собирает своих детей и говорит: «Давайте теперь поговорим о том, что будет, когда я помру», а они: «Мамочка ты что-то рано волынку эту завела, давай лучше не будем сейчас об этом, зачем нагнетать».
Все зависит от того, что мы понимаем под «смертью» и что мы, соответственно готовы обсуждать. Можно говорить о смерти в философском ключе: Что нас ждет после смерти? Какое значение смерть имеет в этой жизни? Зачем смерть нужна? А можно обсуждать вполне прикладные вопросы. Пожилой человек как правило уже пережил опыт чужих смертей, и он знает, чем ему, например, может грозить та или иная болезнь при негативном развитии событий. И он на самом деле обсуждать-то хочет не смерть, а вопросы, связанные, опять же, с собственным комфортом, и собственным представлением о том, как должна развиваться жизнь. После смерти – кому что должно достаться. До смерти, в процессе умирания – как что должно происходить, как он это видит. Что вот, окей, если у меня будет Альцгеймер, то что мы будем делать? Если у меня будет еще какая-то онкология 4-й стадии, то что мы будем делать? Молодые люди часто просто не понимают специфику разговора. Это связано с неумением подойти к теме и говорить про это.
С этим неумением можно что-то сделать? Человек может как-то подготовиться к смерти?
Это зависит от того, как ты оцениваешь собственную жизнь. Я много разговариваю с умирающими людьми. Они переживают о несделанном в жизни – то есть они не переживают о том, что у них сейчас подушка не взбита, это не разговоры о бытовом комфорте, не о бытовых условиях. Хотя это тоже все важно, но это вторично. Можно было бы проанализировать то, о чем думает человек, находящийся на койке хосписа 90% своего времени. Большинство этого времени посвящено рассуждениям о собственной жизни, о сделанных ошибках, и о несделанном –о том, что очень хотелось, а сейчас уже нет возможности сделать.
На меня это оказало колоссальное влияние, я гораздо проще и легче стал воплощать спонтанные желания. Мне друзья говорят: «Ой, ты ведешь такую гедонистическую жизнь! Ты захотел поехать в горы на мотоцикле – ты поехал, а мы вот сидим работаем на карантине», мне должно стать стыдно, что я веду жизнь такую. А я считаю, что надо вообще теперь все в своей жизни сделать так, чтобы как можно больше времени было лазать по горам и кататься на мотоцикле и с дочкой своей развлекаться, чем чего-то не делать, впахивать как вол. Потому что я послушал этих разговоров лично с десяток, ну несколько десятков, и люди говорят: «Я хотел всю жизнь увидеть то или это, а я не увидел. Я общался с людьми, хотел построить такие дружеские отношения и все прое*л, был слишком горд, не извинился вовремя». И так далее. Мне бы хотелось на смертном одре, если я все-таки буду умирать в зрелом возрасте и в сознании,чтобы вообще иметь возможность об этом хоть как-то думать – переживать только о том, что было недостаточно времени. Чтобы повторить все это клевое еще раз. А не о том, что я это или то не сделал.
Мне кажется, это очень важный момент, и это не связано со смертью напрямую. Я это понял на каком-то этапе, потому что я просто общался с этими людьми. Я брал у них интервью и часами разговаривал. Но нельзя же прийти в каждый дом и сказать: «Memento mori. Помни, что ты умрешь. И начни, наконец-то жить так, чтобы это доставляло тебе удовольствие и счастье». Но конечно же это невозможно сделать, потому что это приходит тебе как некое откровение, как эмоциональное ощущении доверия к этому опыту. Но возвращаясь к твоему вопросу, мне кажется, что эту тему можно сделать более общественно открытой, более доступной. У меня есть идея все-таки собрать эти интервью которые я брал, и опубликовать их как прямую речь. Вот взял эту книжку, прочитал и, возможно, понял, что наверное со смертью приходит некоторое сожаление, и сожаление преобладает у всех, наверное у тебя оно тоже может быть, значит с ним нужно что-то делать. Мы, конечно, можем здесь размышлять и критиковать модель старости как выбора и говорить, что за ней стоит либеральный субъект. Но объективно мы тоже сформированы в этой культуре, и живем благодаря этим ценностям, и производим эти ценности, поэтому, наверное, такая старость гораздо лучше, чем старость пришедшая неожиданно, и ты оказался совсем ненужным как вот эта бабуся замечательная из фильма, о котором я уже говорил.
Наверное, из всего вышесказанного можно вывести один тезис: у меня лично страх смерти побеждает все другие страхи. То есть страх смерти остается центральным элементом, но очень четко отрефлексированным и освобождающим меня от страхов перед другими вещами.. То есть я сейчас тревожусь только о смерти, больше ни о чем, от всего остального я стараюсь освободиться. А люди, которые со смертью не работают, они тревожатся о многих других вещах – о реализации собственной, о любви – но о смерти не тревожатся. Зато когда она приходит, проявляется обратная модель.
У нас с тобой дружеско-философский разговор какой-то странный получается, а не интервью. Мне даже это нравится.
Пандемия как-то изменила представления людей о старости и о смерти?
Ковид, конечно, потрепал многие наши иллюзии. Если тебе 65 и больше – каким бы ты ни был огурчиком и живчиком, как бы ты ни работал, ни делал пластические операции и ни кушал биохакинговые таблетки, коронавирус-то точно знает, что ты уже в группе риска, и опасность для тебя повышенная. Нас какое-то время пытались убедить, что старость происходит от ваших внутренних самоощущений, интенций, что на самом деле в 70 лет можно быть счастливым и здоровым человеком, кататься на самокате, носить какие-то модные одежды и всячески быть молоденьким. Но ковид как раз показывает, что сдвинуть биологические границы старости не так-то просто. Пандемия хорошо показывает, как борются концепции социального и биологического в отношении старости.
Ковид заставляет нас заново переосмыслить представления о том, что такое старость и что нужно для ее обеспечения. Мне кажется, нас ждет борьба самых разных дискурсов вокруг этого старения. Пандемия снова продемонстрировала, что нашу городскую жизнь во многом нужно переориентировать под очень большое число стариков, что нужно менять систему здравоохранения, систему ухода. И на этом фоне особенно бросается в глаза то, что идея про «активную старость» вообще-то очень прагматическая. Мол, просто нужно быть живчиком и не падать духом – и нехрен в требовать ничего себе от государства, никаких ништяков. Знаешь, как людям с депрессией говорят: «Чувак, не грусти. Просто не грусти, ну, соберись»! Вот так же можно говорить старикам, которые испытывают некоторые физические и ментальные расстройства: «Да камон, просто сядьте на самокат и кушайте больше моркови с кабачком, и тогда все будет у вас хорошо». А на самом деле действительно с биологическим старением не поспоришь. Знаешь, я со своими спортсменами общаюсь, с коллегами. Они тоже говорят, что в 50 лет ты не восстанавливаешься как в 20, и никуда ты от этого не денешься. Наверное, такие вещи все-таки стоит учитывать.
Мне кажется, золотая эра, когда старость воспринималась в гедонистическом ключе, как жизненная фаза, когда ты уже вырастил детей, сколотил какой-то капитал и можешь предаться различным круизам, получать наслаждение и прочее – эта эра будет очень жестко свернута экономикой. В той же Америке medicare уже не справляется с количеством стариков. На законодательном уровне, помимо повышения пенсионного возраста, постепенно растущая продолжительность жизни влечет то, что и в 60 лет, на самом деле от тебя будут продолжать требовать вести жизнь юного молодца.
